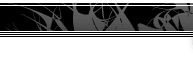|
Любознательность и пытливость всегда были присущи человеку, но иногда люди забывают о предназначении музыки, о том, что она — музыка — не арифметика, не вычислительная шкала, она не терпит ни консерватизма, ни сумасбродных крайностей, не выбирает золотых середин, пусть даже грамотно и стройно выписана в партитуре. Музыка не предмет для удовлетворения чьих-либо амбиций. Не для этого она была нам дана, не для этого предназначена. Музыка обращена к душе человеческой, сопереживанию, отклику. Она даёт возможность чувствовать, размышлять, призывать к созиданию, пробуждать нечто тонкое, необъяснимое, но очень чувствительное, эмоциональное.
Такова музыка Э. Артемьева. Понятие вселенной для русского человека не холодный бездушный космос, это одухотворённое пространство. Для композитора Э. Артемьева это пространство, в котором происходят сложные тончайшие процессы внутренних переживаний, отражённые в звуковых массах, линиях, вертикалях, в потоках гармонических и голосовых сплетений, вовлечённых в пульс и ритм времени.
В XIX веке главенствующую роль играла тональная музыка, постепенно пришедшая к кризису. Она усложнялась и логично перешла в XX веке в политональность и атональность. Сегодня можно сказать, что одну из главных ролей в музыке играет понятие звукового пространства, где важно всё — не только музыкальные звуки, ладовые звукоряды, гармония, соноры, природные шумы, искусственно созданные, музыкально организованные звуки, но и сама среда, где всё это существует — акустическое пространство. Для Э. Артемьева такое пространство является определяющим, как основа ближайшего музыкального развития.
О музыке сегодня
— Когда мы предварительно созванивались о дате и времени интервью, Вы сказали, что уже не занимаетесь электронной музыкой.
— Теперь это, скорее, один из векторов моего творчества.
— Чем это обусловлено: Вы вернулись к академической музыке?
— С одной стороны, да, а с другой — музыка сама как явление «небесных сфер» выше, чем любой стиль или направление. Платон сказал: «Но что может быть выше музыки!» Стили, приёмы… Для меня это теперь не важно. Электроника, как и великая академическая школа — это просто одна из техник, метод выражения, вливающиеся в единую реку музыки. Я пытаюсь оперировать в музыке теми средствами, которые пришли к нам по наследству, а также новейшими технологиями. Без оных, по моему убеждению, невозможно осуществить завет М. Мусоргского: «К новым берегам».
Опера «Преступление и наказание»
— Одно из Ваших новых сочинений опера «Преступление и наказание». На каком этапе сегодня эта работа?
— На сегодня завершено сведение в студии на Мосфильме, делаем мастеринг, но с этим есть ряд проблем.
— С кем Вы работали над записью оперы?
— С Геннадием Папиным, с которым сделал уже много работ. Это такая глубинная связь — мы когда-то закончили, каждый в своё время, одно хоровое училище, ныне Хоровая академия им. А. В. Свешникова.
— Я читал, что Вы из Новосибирска?
— Я там родился, а потом родители переехали обратно в Москву. Мы москвичи, просто отец работал в Новосибирске, и я, что называется, «родился проездом». (Смеётся)
— Вернёмся к опере.
— Эта опера идёт три часа, и всё, что я знаю, умею и чувствую — там. Электроника, народные инструменты, рок-музыка, симфоническая музыка — всё это единый пласт, разноликий, но в едином звуковом стержне. Где нужно, играют баяны, балалайка, и это не; имитация.
— Когда родился замысел оперы, может, ещё до нот, в душе?
— В принципе, это получилась заказная работа. Началось всё в 1975—1976 гг. А. Кончаловский предложил готовый сценарий, где его соавторами были поэт Юрий Ряшенцев и Марк Розовский.
— Этот проект создавался 30 лет?
— Да, практически 30 лет. Меня пригласили, и я приступил к работе. Вроде всё получалось. Изначально хотели сделать именно рок-оперу, но сам масштаб проекта как бы не вмещался в один этот жанр, и постепенно первоначальная идея трансформировалась в большую оперу, где на равных сосуществуют симфоническая, рок и народная музыка. Так образ Родиона Раскольникова решён в традициях и стилистике рок-музыки. В массовых сценах на Сенной площади, возникла необходимость в народных инструментах — гусли, баяны, балалайки. Методы симфонического развития и симфонический оркестр я использовал в сценах, где требовалось длительное нагнетание страстей — подъёмы, спады и вновь напряжение. Вот так постепенно произведение приобрело свою форму. За это время я, наверное, написал целых три оперы — пробовал, делал эскизы, писал партитуры, пока не пришел к окончательному варианту. Потом в домашней студии, я всё сыграл и записал, Геннадий Трофимов спел. Мы сделали последние корректуры, после чего Александр Вайнштейн заинтересовался и влился в, работу как продюсер. Далее решили писать всё на Мосфильме…
— Прошло 2 года, запись оперы закончена, идут разговоры о постановке. Вы уверены, что опера будет поставлена?
— В марте 2007 года выйдет в свет запись. Думаю, постановка состоится в 2008 году — требуется масса репетиций, организационной работы. И мы, кстати, никого из известных артистов не брали, чтобы не было шлейфа от прошлых работ. Рассматривались кандидатуры Владимира Кузьмина, Николая Носкова. Вообще, петь должен был Геннадий Трофимов, я на него писал, на его фактический диапазон, но в последний момент он отказался. Теперь мы нашли замену с очень хорошим голосом, в общем, я удовлетворён.
О рок-музыке
— Перед нашей встречей я просмотрел несколько академических отечественных изданий о музыке, и, в частности, в музыкальном энциклопедическом словаре от 1990 года есть три статьи, в которых упоминается Ваше имя. В одной из них, посвященной; рок-музыке (я был приятно удивлён и, думаю, что наши читатели тоже удивятся), написано, что рок-музыка в России связана с именами Альфреде Шнитке и Эдуарда Артемьева. В те времена был также издан ряд интересных пластинок: «По волне моей памяти» и «НЛО» Давида Тухманова, «Русские песни» и «Звезда полей» Александра Градского, «Метаморфозы» группы «Бумеранг». Каков Ваш взгляд на рок-музыку, с точки зрения сегодняшнего дня?
— Осталась только форма — коммерциализация практически погубила рок-музыку. Моё знакомство с ней произошло в конце 60-х, и тогда я нашёл себя как музыкант. Всё, что я делал до этого, меня не совсем устраивало. Рок-музыка возбудила во мне некие силы, меня «ослепили» новые тембры, гигантская энергетика и духовная высота.) Я, тогда познакомился с величайшими образцами: «Genesis», «King Crimson», «Yes», J.McLaughlin, «Aphrodite’s Child», где работали Вангелис (Vangelis) и Демис Руссос (Demis Roussos), «Jethro Tull» — изысканная, интеллектуальная музыка, то есть та музыка, которая подходила к проблемам масштабно, решала их совершенно в ином качестве. В музыке — произошла духовная и технологическая революция. Новая музыка потребовала и новых инструментов. Именно рок-музыке мы обязаны массовому производству синтезаторов, сильно повлиявших на облик музыки сегодняшнего дня в целом.
— Как создавалась группа «Бумеранг»?
— В начале 70-х, в самый расцвет рок-музыки, мы и встретились: Братья Богдановы — Юрий Богданов, гитарист, и Сергей Богданов, барабанщик; Сергей Савельев — пианист; Владимир Мартынов и я. В одном из последних составов играл бас-гитарист Валентин Козловский. Мы тогда очень много слушали такой музыки вечерами и решили попробовать свои силы в этом деле. Сделали и записали ряд своих сочинений. Тогда мы репетировали в музее А. Н. Скрябина, где и находилась Московская студия электронной музыки под руководством Евгения Александровича Мурзина. Там же появились «Метаморфозы», «Картины настроения» и «Олимпийская кантата».
Краткая история синтезатора Синти-100
— Многие меломаны, имеющие Ваши записи и следящие за Вашим творчеством, знают, что в основном бее записи того времени, были сделаны на синтезаторе Синти-100. Известно, что этот уникальный стендовый синтезатор английского Производства специально приобрели в советское время для Московской студии электронной музыки, но никто более ничего не знает об этом инструменте, о конструкторе и создателях. Можно как-то прояснить историю инструмента и рассказать о людях, его создавших?
— Это огромный стационарный инструмент, основанный на наборе генераторов. Построил его русский по происхождению, по материнской линии состоявший в родстве с древним родом князей Долгоруких, инженер Пётр Зиновьев, проживающий в Англии — состоятельный человек, талантливый звукоинженер-конструктор. В своё время, в 60-е годы, П. Зиновьев собрал группу инженеров, которую возглавлял Дэвид Коререр. Потом они привезли и установили в России стационарный синтезатор Синти-100.
— Как Вы нашли эти контакты?
— По-моему, в 1974 году была выставка достижений мировых технологий на фирме «Мелодия». Как ни странно, но несмотря на то, что у нас с Западом в то время были плохие отношения, техническими и инженерными достижениями мы обменивались. Там я и познакомился с Зиновьевым. В синтезаторе было 12 генераторов, а сам принцип изобретения уникален тем, что внутри инструмента уже стоял небольшой компьютер — маломощный, конечно, но считавшийся мощным для своего времени. И сами генераторы были потрясающего качества. В основном тогда использовались генераторные синтезаторы «Moog», но этот инструмент был на несколько порядков выше. Совершенно фантастического качества звук. Инструмент стоил дорого — порядка $350.000 US Dollars. К Д. Д. Шостаковичу ходила целая делегация с просьбой написать письмо нашему тогдашнему премьер-министру A. M. Косыгину. Письмо было написано, и Косыгин его подписал, благодаря этому приобрели уникальный инструмент. Всего в мире 12 таких синтезаторов. Правда, через некоторое время статус «Синти-100» подкосил проект синклавира, созданный в Америке инженером Алонсе и композитором Эппелтоном. Все сразу захотели компьютерную машину, диджитальную, а синтезаторы «Синти» были аналоговыми. В результате Зиновьев совершенно разорился, не выдержав конкуренции.
— На «Синти 100» написано много музыки для кино?
— Исключительно электронную музыку для кино я не писал, в моих работах она была одной из составляющих проекта. Как правило, я использовал её вместе с симфоническим оркестром. Для Тарковского было важно, чтобы музыка, в его кино, создавала уникальную атмосферу, в которой существуют его герои. Зритель погружался в некую стихию, звуковую плазму. Музыка растворяется в шуме листвы, плеске воды, гуле ветра — вот такая техника.
Синтезаторы
— Что Вы можете сказать о наших отечественных синтезаторах?
— Мы обладаем уникальным электронным инструментом, который построил в 1958 году Е. А. Мурзин — единственным в мире синтезатором АНС (инициалы Александра Николаевича Скрябина). Работу над этим инструментом Е. А. Мурзин начал ещё в 30-е, когда им были сделаны все расчёты и чертежи АНС. Теперь на АНС учатся студенты. Позднее Янис Ксенакис создал компьютерную систему, где похожая методика кодирования привела к схожему звучанию. Всё-таки инструмент многое диктует: качество музыки, спрос-предложение, предложение-спрос. Я считаю, что композитор, работающий для синтезатора, обязательно должен преодолевать инструмент, то есть открывать то, что не выложено на поверхности, тогда будет качественный скачёк. А сейчас подход к синтезаторам примитивный, массовый — ткнул кнопку, и всё. Так его использует попса. А ведь это совершенно грандиозная машина, клад такой, что в нём копаться и копаться, перспективы огромные заложены. А большинство обладателей совершенно уникальных синтезаторов даже не вникают в инструмент, им просто некогда — опять коммерция.
— Звук это очень сложный организм, состоящий из динамики, высоты и обертонов, негармонических и шумовых призвуков. Возможность работать со звуком на синтезаторе — это ни с чем не сравнимый и захватывающий процесс — влиять на строение звука, то есть синтезировать его с несовместимыми тембрами, обертонами, шумовыми призвуками. И если этот подготовленный звук нравится, то он своим необычным звучанием может подвигнуть на создание музыкального произведения. Каким образом Вы это делаете?
— Есть определение Роберта Муга (Robert Moog), что такое синтезатор: «Синтезатор — это машина для логического воспроизведения звука». В синтезаторе мы имеем генераторы звука различных форм (синусоида, треугольник, пила и т. д.), энвелопы (огибающая), модуляторы, фильтры и ещё много чего специального. На основе функций, заложенных в приборах, можно построить, в принципе, любой звук. Сегодня «подготовленный» на синтезаторе звук свободно фиксируется, и его можно повторить. Часть проблемы решили так называемые «пресеты» — тембры, Заложенные в память синтезатора заводом изготовителем. Создание искусственного звука процесс весьма непростой. Существуют несколько типов синтеза, но самый перспективный это — аддитивный (дополненный) синтез, то есть синтез путём набора соответствующих обертонов. АНС — синтезатор аддитивного типа. У АНС между гармониками весьма ограниченный динамический диапазон, всего 6 дцб. Ведь звук складывается не только из обертонов, но и из их динамических соотношений. При различных динамических картинах одного и того же набора гармоник, тембры могут быть совершенно разными. В этом отношении у синтезатора АНС по динамике обертоны очень мало различаются (одна из причин специфического электронного звучания), но этим просто надо уметь пользоваться, недостаток важно обратить в положительное качество.
Синтезатор АНС разрабатывался как инструмент композитора, на котором он мог работать без посредников — музыкантов-исполнителей, звукорежиссёров, дирижёра. Весь процесс, от сочинения, синтеза, исполнения и выпуска готового продукта — всё создавалось только им одним и это — главное его достоинство. Композитор записывает нужные ему звуки на стекле, покрытом непрозрачной не сохнущей краской, снимая резцами краску в определённых местах. Это стекло является своеобразной партитурой инструмента. Композитор, работая на партитуре синтезатора, уподобляется художнику, он подкрашивает, ретуширует, стирает и наносит новые кодовые рисунки, осуществляя слуховой контроль получаемого результата.
На «Синти-100» звук синтезировался путём настройки многочисленных генераторов и сопутствующих им приборов вручную. Но в нашем «Синти» отсутствовала память — надо было сделать звук и сразу его записать, наш «Синти-100» не запоминал подготовленный звук. Был секвенсер, который мог фиксировать 220 нот, а по тем временам 220 нот — просто огромный объём! (Смеётся).
— То есть к синтезатору всегда был подключен магнитофон?
— Да, 8-канальный «Studer» швейцарского производства, но это было позже, в 80-м. Сначала стояли несколько стереомагнитофонов, и путём перезаписи, причём с большой потерей качества, фиксировали выстроенные звучания. Ещё имелось две клавиатуры, что давало возможность записывать в два слоя на одну плёнку — находили способы соблюсти качество. Так что, каждый тембр приходилось делать заново, и повторить его уже было весьма проблематично. Даже если знали, как и что надо подкрутить, мы всё равно не могли повторить тембр один к одному — функции ползли, уплывали, и всегда семпл был немного другой. Помимо работы над музыкой в студии, мы изучали акустику под руководством Е. А. Мурзина. Есть книга известного чешского учёного Скучека, знаменитого математика и акустика. По ней учились студенты университетов всех стран, нам тоже её привезли, и мы её изучали. Как складывать, рассчитывать формулу акустики зала, что такое форманта, обычные исходные данные по акустики.
— Почему Е. А. Мурзин сделал разделение на АНС не полутоновое (хроматическое), а на 1/6 и 1/12 тона? Это даёт возможность работать в микрохроматике, внедряться более глубоко в звук? (У хроматического ряда 12 интервалов в октаве. В АНС «основной звукоряд инструмента представляет собой членение октавы на 72 интервала, при работе с прецизионными магнитофонами при монтаже возможна работа с делением октавы на 144 мнтервала и даже на 216 интервалов» — Е. А. Мурзин)
— Это была гениальная идея, воплощённая в синтезаторе АНС, у которого звукоряд позволяет работать как в традиционной полутоновой системе, так и в микрохроматике: 1/6 и 1/12 тона! Когда Мурзин рассчитал 1/6 тона, эта шкала максимально совпадала с натуральным, обертоновым рядом, где совпали акустические интервалы: октава, квинта, терция 1, 3, 5, 7… 12. Темперация отчего у нас? Оттого, что звуки »не точные». Если идти по натуральной шкале, то никогда не будет октавы. Будет звукоряд, у которого нет конца, он постоянно будет неустойчивый. 1/6 тона примиряла и делала более точным совпадение обертонов. С делением на 1/12 тона происходит идеальное совпадение с натуральным звукорядом, и на АНС можно играть обертонами! Это гениальное понимание и открытие. Шкала 1/6 и 1/12 тона на синтезаторе АНС позволяет работать линейно, писать мелодию, которая живет акустически, в натуральном звуковом ряду. У АНС 720 генераторов чистых синусоидальных тонов. В современной технике пока ещё никто не взялся построить подобный инструмент.
О кино
— Известно, что яркое начало Вашей работы в кино связано с Андреем Тарковским, но кроме этого, Вы написали музыку к почти двумстам фильмам. Встретился ли на Вашем пути такой кинорежиссёр, который абсолютно точно попал бы в Вас как в композитора, чтобы Ваша музыка стала действующим лицом в фильме и чтобы Вас, как человека, эту музыку написавшего, абсолютно всё удовлетворило?
— Работа с Тарковским это совершенно уникальная история, как, впрочем и работа с Никитой Михалковым. Композитор, работающий в кино, должен очень многое уметь. Кино дало мне колоссальный диапазон: от цирковой музыки до додекафонии. Сейчас Андрей Кончаловский делает картину «Глянец», где ему нужна цирковая музыка. Давно ничего подобного не писал, так надо попробовать. В этом отношении кино — колоссальный учитель, несмотря на то, что это заказная работа, часто — под давлением, но зато приходится решать задачи, совершенно тебе не свойственные.
— В любом случае режиссёр сам не пишет музыку, и в этом есть свобода.
— Раньше считалось, что композитор, пишущий музыку для кино, это композитор второго сорта. Может быть, пожалуйста. Но дело в том, что сейчас музыка кино выросла самостоятельную и самодостаточную сферу. Появились такие гиганты, как Эннио Морриконе (Ennio Morricone) — гениальный мелодист, Вангелис (Vangelis), Джон Вильямс (John Williams), которого я считаю одним из своих учителей. Как он работает с кадром! Я не могу поставить рядом никого — исключительный мастер. Многие сейчас подзабыли Вячеслава Овчинникова, написавшего музыку к фильму «Война и мир» Бондарчука и к «Андрею Рублёву» Тарковского. Когда называешь фильмы, все сразу вспоминают, какая там совершенно фантастическая музыка. У меня началось всё с Мосфильма. Там снимали картину на тему цирка. Я тогда пришёл на пробы (меня привёл друг, снимавшийся в этом фильме). Мне просто хотелось подзаработать, сыграв роль пианиста-тапёра. Это было в 1964 году. Режиссёру я сказал, что закончил консерваторию, и услышал в ответ: «Вы попробуйте что-нибудь написать, но я Вам ничего не обещаю». Видимо, ему было просто любопытно. Он давал мне задания, а я писал. Потом я узнал, что режиссёр пошёл в музыкальную редакцию и объявил там, что «этот молодой человек будет работать над музыкой». В редакции, конечно, стали возражать — может быть, кто-то не знает, но в то время очень сложно было попасть в киномир. Но режиссёр — он ведь диктатор, если сказал, так и будет. Вот таким образом я попал в кино, да ещё и снялся там! Это фильм «Арена» режиссёра Самсона Самсонова, с которым у нас было впоследствии ещё 2 фильма — «Каждый вечер в 11» и «Торговка и поэт». Второй раз я снялся у Никиты Михалкова в кинокартине «Без свидетелей».
— А с западными кинорежиссёрами Вы работали?
— В Америке я работал и жил с 1989-го по 1993 год (Лос-Анджелес, Голливуд), а потом ещё до 1997 года постоянно летал туда по работе. Была написана музыка к 6 картинам.
— Какие это были фильмы и кто режиссёры?
— Три картины с Андреем Кончаловским — «Homer & Eddie» (1989), «Inner Circle» (1991), «Odyssey» (1997), затем «Heart of the Deal» (1992) с Марианной Левиковой, «Double Jeopardy» (1993) с Лари Шиллером (Larry Shiller) и «Burial of the Rats» (1994) с Денном Голденом (Den Golden).
— В чём отличие в работе там от российского процесса создания фильма, а конкретнее — создания музыки для кино?
— Абсолютно никаких отличий. Есть мир музыкантов. Язык музыки не нуждается в переводе. И у кинорежиссёров есть свой профессиональный язык и требования к композиторам, работающим для кино.
Мировые центры электронной музыки
— Скажите, Вы ещё со времён «Бумеранга» участвовали в международных электронных фестивалях?
— Да. Впервые я участвовал в подобном мероприятии в 1982 году в Финляндии, а потом меня отпустили во Францию, в Бурж, где проходят авангардные фестивали академической и электронная музыки. Сложнейшая электроника, такой жёсткий эксперимент, но есть и духовные сочинения, но больше экспериментов. Всё наше начальство и Союз композиторов тогда не принимали это направление, хотя устроители фестиваля регулярно присылали приглашения. А потом обо мне там рассказал Эдисон Денисов, который тогда много работал во Франции. Мне прислали приглашение, и меня отпустили — на тот момент уже зашатались все идеологические основы, шёл 1986 год.
— Какие свои произведения Вы представляли в Бурже?
— По-моему, это был «Мираж», сделанный ещё на «Синти-100» и «Мозаика», написанная для АНС. Тогда мало что показывалось вживую, в основном у всех были представлены записи. Это сейчас исполняют «живьём», хотя записи тоже привозят. Там меня очень тепло встретили и через год заказали к столетию французской революции 1789 года сочинение для электроники, какое я сам пожелаю написать. И в 1989 было представлено моё сочинение «Три взгляда на революцию».
— У Вас была возможность поработать в IRCAM? (Парижский институт исследований и координации акустики и музыки, основанный Пьером Булезом)
— Нет, к сожалению Бурж и IRCAM — это два конкурирующих центра, они буквально «на ножах». IRCAM находится под покровительством правительства, а в Бурже есть Институт электронной музыки, также требующий серьёзного финансирования, и они обижаются, что им меньше выделяется на развитие.
— Какие есть ещё ключевые центры электронной и авангардной музыки?
— В Кёльне есть знаменитая студия Штокхаузена (Karl-Heinz Stockhausen), а в Японии — не менее известная студия Исао Томиты (Isao Tomita). В Америке в предместье Сан-Франциско есть так называемая Силиконовая Долина, где находится университет Веrкеlеу. Там располагается огромная студия. Руководит ею Джон Эппелтон, композитор, декан музыкального факультета. Студия в Berkeley это классы обучения, горы синтезаторов, центральный компьютер — фантастика. Двое наших консерваторских аспирантов обучались в Berkeley, потом их оставили работать там же в студии. Сам Джон Эппелтон периодически приезжает к нам в консерваторию (в октябре — ноябре) на две недели и читает лекции на английском языке в Центре электронной музыки им. Л. С. Термена.
Будущее музыки
— Почему, по Вашему мнению, Россия, начиная с Л. С. Термена, Е.А. Мурзина и до современных российских учёных, на столетие опережала всех в технологическом плане, а теперь на столько же отстаёт?
— Что касается производства, это бессмысленное занятие, весь мир определился. Я имею в виду то, что японцы и американцы довели технологии в создании музыкальных синтезаторов до совершенства, как и компьютерные программы для работы со звуком. Нет смысла создавать то, что уже имеет место и во всех отношениях удовлетворяет как любителей и учеников, так и профессионалов. Немцы создали последнюю разработку- синтезатор «Neuron Hartman», который сконструировав по принципу работы нейронов в человеческом мозге. В инструменте есть джойстиковое управление, и ты при работе с джойстиком как бы случайно «цепляешь» чувствительные сети нейронов, создающих звук, а синтезатор запоминает эти звуки. Такими спонтанными движениями воспроизводится исполнение, это очень мощная штука.
— Каждый год в ноябре на международном фестивале «Московская осень» секция электронно-акустической музыки при Московском союзе композиторов представляет электронные произведения композиторов, создающих свои сочинения на синтезаторах и компьютерах. Вы возглавляете эту секцию. Не все знают об этом, и на концерты секции приходит не очень много людей — в основном аудитория состоит из преподавателей и студентов музыкальных учебных заведений и композиторов и ещё немного, интересующихся людей. И это в городе, где более 10 миллионов жителей.
— Последние два фестиваля, проходящие в ноябре, на удивление собирали полный зал. Я много где был, и могу сказать, что повсюду в мире то же самое — пустые залы, на концертах музыканты играют практически для себя, и там заходят случайные люди. Я считаю, что здесь вина самих авторов, которые совершенно углубились в чистый эксперимент и как бы в нём решают свои задачи. А их ответ на вопрос «для чего или кого они это делают» прост — для себя, что тут особенного.
— Каковы сегодня возможности электроники, по Вашему мнению?
— Электроника сейчас открывает исключительные возможности. Раньше сетовали на то, что «инженеры не дают музыкантам решать художественные задачи» в силу несовершенства их машин, а теперь мы не можем освоить всё те технические чудеса, которыми обладают их новейшие создания. Так значит, надо ставить перед собой большие задачи. Для базы всё готово. Я считаю, что надо создать прецедент, построить специальный зал, каких в мире ещё нет. Сейчас зреет новое искусство. Сейчас оперу надо ставить не как «Фигаро», а как Мистерию, чтобы сцена могла виртуально приезжать в зрительный зал, где герой и зритель участники мистерии. Вообще, сейчас искусство и музыка мало трогают людей. Объём информации таков, что люди даже защищаются от неё. Поэтому просто необходима мистерия — синтез искусства и новейших технологий, и композитор, который ими владеет. О чём-то подобном некогда мечтал и пытался воплотить в жизнь А. Н. Скрябин, на 100 с лишним лет опередивший своё время. Сегодня все интеллектуальные и технические условия для этого есть. Сейчас созданы виртуальные экраны с живой голографией. Она движется, может приближать актёра. И не надо никаких дымов — визуальные экраны разработаны таким образом, что они существуют, но их не видно, а на них: программная проекция любого пространства, движения, увеличения, раздваивания, размножения — и масса других эффектов. «Раскольникова» я бы хотел поставить именно так.
О развитии музыки
— Сегодня мнения разделились: одни отстаивают сохранение традиций, мелодизма, другие уходят в абсолютный звуковой эксперимент, третьим всё это без разницы — работают, и всё. Существуют ли границы, рамки в современной музыке или всё это в прошлом?
— Нет никаких рамок. Я сам находился, что называется, под колпаком сомнений, но вместе с тем считал себя свободным человеком, занимался электронной музыкой и был совершенно независим. На первую часть вопроса отвечу, что музыка без эмоций, это некое совершенно другое искусство. Для меня исчез композитор Штокхаузен (Karl-Heinz Stockhausen). В своё время я его много слушал, у меня было собрание его сочинений, которое я потом всё раздарил. Его мир очень узкий, весьма интересный, да, но для избранных.
— Сейчас говорят о кризисе жанра, потому что кончаются комбинации 12 клавиш. Поэтому мы упоминали сегодня микрохроматику, как один из путей развития?
— Я вижу неисчерпаемые резервы музыки в управлении акустическим пространством. Новейшие технологии дают возможность создавать искусственные акустические среды и неограниченно управлять ими. В этих пространствах звук приобретает некие новые качества, изначально в них не заложенные — т. е. акустика воздействует на звук. Можно играть на двух нотах, и вы будете слушать их как зачарованные. Попутно хочу заметить, что минималистическую музыку я избегаю слушать — не хочу терять время на то, что мне сразу понятно. Есть немногие исключения, например, музыка Клауса Шульца (Klaus Schulze). Мне кажется, он сделал большие достижения. Минимализм для меня может быть привлекателен лишь в электронной среде, в среде управляемой акустики, потому что ты слышишь не только сами звуки, но и пространство, которое бесконечно, и ты начинаешь жить вместе с пространством, а звуки являются как бы поводом…
— Пространство как бы ведёт и одухотворяет, оживляет.
— Совершенно верно — новое качество, и здесь только технологии позволяют нам это решать. Управление пространством, сочинение пространства, его «раскрытие», «схлопывание». Композитор становится конструктором звукового пространства, где сегодня он может реально создать звуковую многослойность, ввести слушателя в созданные им звуковые сферы. Ранее ничего подобного не существовало, композитор писал музыку без учета акустических свойств. Сейчас появилось столько новейших технологий, и грех говорить, что музыка кончилась, — она только начинается.
— Видимо, в музыку надо вкладывать больше души и сердца.
— И плюс её надо знать и изучать. И когда люди говорят: «А! Это синтезатор, на кнопку нажал, и само играет», они вообще не понимают о чём идёт речь. Я могу сказать, что акустические инструменты — это продолжение руки человека, руки музыканта, а синтезатор — продолжение души человека. Я высказал крайнюю мысль, но она имеет право на существование.
Борис Томилов
(«Music Box» от 2006 г. № 4 (42))
|