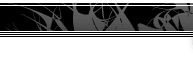|
«Когда уходишь в работу — погружаешься в мир иллюзий. Ведь искусство — это иллюзия, с жизнью почти ничего общего не имеющая…» Это фраза из давнего интервью Артемьева в «Музыкальной жизни», которое он дал лет двадцать тому назад. И вот мы снова пришли к народному артисту России, лауреату государственных премий Эдуарду Николаевичу Артемьеву, чтобы поговорить с ним в преддверии его 70-летия. Его музыка на протяжении нескольких десятилетий вызывает неподдельный интерес и не нуждается в специальном представлении. Будучи человеком непубличным, он редко оказывается под прицелом телекамер, равнодушен к журналистам и остаётся для многих закрытым человеком. Тем не менее, в этом разговоре, как нам кажется, он позволил себе быть предельно честным и откровенным…
— Начну с глобального. Если вспомнить о том, что в детстве Вы испытали сильное потрясение от знакомства с музыкой Александра Николаевича Скрябина, под воздействием которой Вы решили стать композитором, я хочу узнать: есть ли и у Вас, подобно Скрябину, собственная философская концепция, которой Вы руководствуетесь в своем творчестве?
— Нет, никакой концепции у меня нет совершенно. Я как-то её не приобрел. Работаю больше по зову сердца, выражая и фиксируя в звуках то, что я ощущаю внутри себя. Что же касается философских взглядов Александра Николаевича Скрябина, то они во многом сформировались под воздействием идей Блавадской, последователем которой он был. Их иначе как утилитарными не назовешь, и я не думаю, что они оказали прямое влияние на его творчество.
— Известно, что с годами люди становятся рабами привычек. Какой образ жизни Вы предпочитаете вести?
— Я веду кабинетный образ жизни и стараюсь по возможности никуда из дома и своего кабинета не выходить. Лишь, в крайнем случае — по делам или в гости, если, конечно, приглашают. Я не люблю гулять по улицам, как Пётр Ильич Чайковский, и считаю это занятие просто потерянным временем.
— Но Вам же нравится путешествовать?
— По не долго. Недели две-три, чтобы отдохнуть где-нибудь на берегу моря…
— Мы знакомы довольно давно, но, приходя к Вам, я вижу одну и ту же картину: Вы работаете. А ещё я знаю, что Вы очень мало спите. Откуда взялся такой трудоголизм? Это что — тоже привычка, выработанная с годами, одержимость жаждой деятельности или насущная необходимость?
— Безусловно, привычка. Я уже не представляю себе другого образа жизни. Если случаются моменты, когда я не сочиняю, то вожусь с компьютером, читаю и изучаю программы, потому что техника не стоит на месте и надо всегда себя подстегивать, чтобы постоянно быть в курсе событий. А программы, даже те, которые мне хорошо известны, каждый раз обновляются, и надо за всем этим следить, иначе можно отстать от времени. Сплю я не более четырех-пяти часов в сутки. Мне этого достаточно.
— Почему Вы такое большое значение придаете владению компьютерными программами?
— Потому что они высвобождают человека от рутинной работы. Мы ведь живем в огромном технологическом мире и при этом его толком не используем. И я как раз полагаю, что и рок-музыка многое потеряла за последнее время и ушла в попсу, где вообще думать ни о чём не надо, потому что не оправдались надежды, которые на неё возлагали. Между тем я считаю, что современные технологии позволяют нам делать всё, что угодно, а мы пренебрегаем открывшимися перед нами возможностями, ибо ленивы и нелюбопытны…
Взять оперу: сейчас в той форме, в какой она сложилась двести — триста лет назад, опера себя исчерпала. Почему-то ещё до Моцарта, где-то начиная с позднего барокко, музыка стала забирать себе слишком много функций, стала рассматриваться как главный и единственный стержень всего, что происходит на сцене. Декорации строились весьма схематично и приблизительно, актёрская игра считалась второстепенной. Между тем, и композиторы, и либреттисты, и зрители прекрасно сознавали, что опера — синтетическое искусство, где все элементы должны действовать на равных, и для неё важна не только музыка, пение, но и актёрское мастерство, режиссура, сценография и т. п. Только тогда опера может в полной мере воздействовать на зрителя. Музыка решить задачи, которые первоначально заложил в неё автор, в одиночку не может. К сожалению, композиторы, также как певцы и музыканты (я говорю о том, что знаю, что слышу), подсознательно привыкли видеть только ноты и слишком увлекаются звуковым материалом, забывая, что опера — это спектакль, живущий по своим театральным законам. И я убежден, что в ближайшем будущем отношение к опере будет радикально и серьезно переосмыслено, что для её постановки будут создаваться коллективы авторов, которые будут совместно разрабатывать какие-то идеи и затем осуществлять их на сцене.
— Возможно, человечество стоит на пороге принципиально новых открытий, и оно в техническом плане готово совершить этот рывок. Но как соотносятся подобного рода идеи с тем духовным кризисом, о котором всё чаще говорят и в России, и на Западе, называя его кризисом гуманизма?
— На этот вопрос, я полагаю, можно ответить словами Булгакова, который считал, что кризис у людей просто в головах. А если говорить серьёзно, то мир вообще идёт к ужасной катастрофе, и процесс этот, видимо, остановить уже нельзя. Но я верю, что путем жертвы мир спасётся, хотя схватка будет страшная…
— В юности Вы увлекались идеями дзэн-буддизма, а затем пришли к православию…
— Вернее так: я всегда был по природе своей православным человеком, который какое-то время увлекался дзэн-буддизмом. Потом это увлечение прошло, но не бесследно. Что-то осталось, безусловно.
— Однако за исключением отдельных музыкальных номеров в опере «Преступление и наказание» Вы, насколько мне помнится, не писали духовных сочинений.
— Одно такое сочинение у меня всё-таки есть: небольшое произведение для женского и мужского хора a cappella «Свете тихий», созданное ещё в советские времена. Тогда оно было единственным произведением, которое я сделал по заказу (этот хор меня попросил написать один регент), причем, сделал с увлечением, ощущая особый душевный подъём при его написании и понимая, насколько ответственны для композитора такие вещи.
— Что для вас важнее: музыка или религия?
— Важно и то, и другое. На мой взгляд, в жизни человека музыка идёт следом за религией. Религия — это путь познания Всевышнего. Мы идём по нему, читая молитвы, священные канонические книги. Если мы делаем это упорно и каждодневно, то нам обязательно отворится откровение. Нечто подобное происходит и с музыкой. Музыка — величайшее искусство, дарованное нам. Она — некий инструмент, предоставленный нам для связи с Богом. Поэтому она способна открыть такой канал духовного сопряжения, который простирается довольно далеко, вплоть до Высших сил. Я уверен в этом, потому что весь мир находится в вибрации. Наши души тоже вибрируют, и когда музыка попадает в резонанс с душой, слушатель внимает твоей музыке. Чем больше возникает таких резонансных соотношений, тем больше становится поклонников у этого произведения.
— Вы представляетесь мне человеком, близким по мироощущению мастерам эпохи барокко, поскольку признаёте, что в мире есть страдание, несчастья, болезни и горе, но они даны человеку как испытание. И только пройдя через невзгоды и выдержав их со смирением и достоинством, люди смогут понять, насколько прекрасен и гармоничен мир, в котором они живут.
— Это — христианская концепция. Я уверен, что возмездие существует, но я не думаю, что Всевышний настолько жесток, что наказывает, но какие-то знаки он даёт. Просто надо уметь их видеть. Иногда задним числом ты вспоминаешь о том, что тебе было предупреждение, но ты его пропустил.
— Какой из семи смертных грехов Вам представляется самым страшным?
— Все семь.
— Полагаете ли Вы, что мир спасет любовь?
— Нет, я так не считаю, хотя смотря какое значение вкладывается в это слово — любовь. Если божественное, то человек не способен её постичь, только святые смогли к ней приблизиться…
— Что происходит после того, как Вы заканчиваете какое-либо из своих произведений?
— Я потом им совершенно не интересуюсь. Правда, несколько раз могу проиграть, чтобы проверить, всё ли сделано так, как задумано. На этом — всё.
— Состояния опустошённости, депрессии Вы не испытываете?
— Нет, потому что у меня всегда очень много работы, от которой действительно устаёшь. Состояние опустошённости мне не знакомо, а что касается депрессии, то я воспитал себя так, чтобы никогда её до себя не допускать. Хотя в ранней юности у меня бывали моменты непродуктивных состояний, но впоследствии я научился их гасить. Ну, что делать, если что-то получается не так, как хочется. Это — мои проблемы, я должен с ними существовать и их преодолевать.
— Среди маститых композиторов есть немало тех, кто создает целые школы и имеет многочисленных последователей. Вы к их числу не относитесь. Был однажды такой период в 80-х годах прошлого века, когда возникла «мода на Артемьева», и некоторые композиторы пытались подстроиться под Ваш стиль, но скоро были вынуждены отказаться от подобного рода затеи — слишком отчетливо была заметна подделка под первоисточник. Столь же неудачными были и до сих пор остаются неоднократные попытки Московской консерватории заинтересовать Вас преподавательской деятельностью и пригласить профессором кафедры композиции. Хочется спросить: можно ли Вас назвать композитором-одиночкой, композитором-индивидуалистом?
— Я абсолютный индивидуалист и законченный одиночка, причём с детства. Никогда не любил ни пионерские отряды, ни комсомольские собрания. Считал их посещение бессмысленной тратой времени. Поэтому всячески от них увиливал. Мне интересно быть с самим собой, о чем-то с собой рассуждать, спорить, решать проблемы. Конечно, у меня есть друзья, с которыми я встречаюсь очень редко, примерно раз в полгода, но их очень немного.
— Какие люди становятся Вашими друзьями? У Вас есть определенные критерии на этот счет?
— Никаких критериев у меня нет. Всё происходит чисто случайно. В последнее время нашими ближайшими с Изольдой друзьями стали супруги Лермонтовы. Когда мы с ними познакомились, будто какая-то искра пробежала между нами. С тех пор и они к нам очень тепло относятся, и мы их по-настоящему любим и часто вспоминаем. Кстати, Лермонтов не однофамилец, а правнучатый племянник великого русского поэта и его полный тёзка. Он интересный и глубокий человек, и мне нравится с ним беседовать, потому что он часто задаёт и старается найти ответы на вопросы, о которых я сам бы никогда не задумался.
— Нередко известные люди сталкиваются с весьма непростой проблемой выбора между тем, чем бы они действительно хотели заниматься, и тем, что им заказывают. И не секрет, что, соблазняясь высокими гонорарами и руководствуясь меркантильными соображениями, они растрачивают себя по мелочам, не находя потом сил на создание поистине выдающихся произведений. Как Вы решаете данную проблему?
— Мой учитель и друг Николай Николаевич Сидельников бросил как-то мне такую фразу: «Я — профессионал и потому работаю по заказу». Эта фраза может показаться вызывающей, но я убежден в её правоте. Дело в том, что, если, работая по заказу, ты раз или два схалтуришь, это тебе не простится никогда. Тебя просто не будут больше приглашать. Поэтому, если ты за что-то берёшься, нужно доводить это до конца и делать это хорошо. Я уже столько лет работаю в кино, но у меня нет проходных картин. В рамках того, что даёт мне материал, стараюсь сделать всё, что могу и что умею. Стараюсь выжать из материала всё, что можно. Выше материала фильма прыгнуть не могу, да это и не нужно, потому что тогда начинается «перетягивание каната на себя». Но выполнить те задачи, которые ставит передо мной режиссёр, найти правильное музыкальное решение, стараюсь обязательно. Для меня не имеет значения великий это режиссёр или маленький, опытный или начинающий. Важен только материал, который он предлагает и который заставляет меня включиться в работу. Удачно или неудачно — судить зрителю. Так было всегда, так остаётся и поныне, хотя, казалось бы, сейчас есть большой опыт, я всё умею, но, тем не менее, в каждой картине возникают новые задачи, для которых ты должен найти своё решение. Кстати, даже при выполнении вполне обычных заказных работ всегда есть возможность чему-то поучиться. И потом ты находишься в таких стеснённых рамках отведённых тебе сроков на написание музыки, они оказывают на тебя настолько сильное давление, что ты можешь в одночасье найти неожиданное решение, выкрутиться простейшим способом из сложнейших ситуаций. У меня было много подобных случаев. Например, для последней ленты «Око за око», которую я делал с Геннадием Полокой, режиссёром, который любит работать в жанре ретро и очень хорошо им владеет, мне пришлось написать ряд музыкальных номеров и пару маршей в стилистике трагического для нашей истории периода революции. Надо сказать, что ранее я ничего подобного не сочинял, но Полока показал мне несколько примеров, и я, как ученик, даже с некоторым удовольствием написал ему эти марши и стилизованные музыкальные фрагменты. И потом, те сочинения, которые я вроде бы делал для себя, в итоге тоже получались заказными. Исключение составляет только опера.
— Написать оперу «Преступление и наказание» Вам предложил Андрей Сергеевич Кончаловский… Приступая к работе над оперой, Вас не смущал тот факт, что Вам придётся много писать для голоса? Ведь Вы принадлежите к числу тех композиторов, для которых темброво-инструментальная сторона звука является определяющей.
— Действительно, для голоса я писал очень мало. Пришлось учиться.
— Учиться у кого?
— У самого себя. Дело в том, что чужую музыку я практически не слушаю. Особенно в последние годы. Ни классику, ни старую музыку, ни новую. У меня не возникает потребности её слушать, да и времени тоже нет. В молодости, где-то до тридцати лет, это необходимо, потому что ты набираешь информацию и впечатления, потому что ты осваиваешь этот мир. Но потом… Конечно, если я сталкиваюсь с чем-то для меня любопытным, я обязательно посмотрю по партитуре, как это технически сделано.
— На Ваше творчество в той или иной степени оказали влияние разнообразные стилевые направления и течения как современного музыкального искусства, так и классической музыкальной традиции прошлых столетий. Вы ощущаете себя национальным русским композитором или космополитом, таким, как скажем, был в своё время Моцарт?
— Наверное, всё-таки космополитом. Это правильное слово, хотя насчёт сравнения с Моцартом — это слишком… Для меня действительно не существует любимого стиля. Одно время меня сильно увлекла рок-музыка, и я многое из неё почерпнул. Она стала трамплином, который позволил мне состояться в будущем как композитору. Мне также не чужда и классика, как отечественная, так и зарубежная. Но я не хочу ограничивать себя в каких-либо национальных рамках, стилях, вообще в звуковом плане, например, писать для оркестра или для электроники, или для рок-ансамбля. Я не люблю слова полистилистика. Оно какое-то аморфное и всё равно связано с определенным стилем, хотя другого определения и не приходит на ум. Первый раз экспериментировать со стилями, смешивать, монтировать, трансформировать их я попробовал в своей Олимпийской кантате «Ода доброму вестнику», но не специально, а чисто интуитивно, потому что, когда мне заказали это сочинение, сказали: «Делай всё, что хочешь». С такой вседозволенностью я ещё не сталкивался и потому распоясался. Технику специальную разработал и что-то поймал для себя. Знал, как писать, чтобы звучало, как мне хотелось. Поскольку кантата должна была исполняться на стадионе в Лужниках, то я взял два симфонических оркестра, несколько хоров, группу солистов и т. д. Иными словами, если бы не было «Оды к доброму вестнику», то, вероятно, не было бы и оперы, поскольку именно в кантате я состоялся в будущем как композитор. Вообще, я боюсь произносить применительно к себе слово «композитор», потому что считаю, что композиторами можно назвать только несколько человек: Моцарта, Бетховена, Чайковского. Мне же более нравится слово «сочинитель», впрочем, оно тоже неточное.
— Мне оно не нравится, совершенно. Так что, если Вы не возражаете, я позволю себе и дальше называть Вас композитором. Итак, Вы считаете себя космополитом…
— Да, и исходя из этого, я разработал некую систему письма, суть которой заключается в том, что я не допускаю в своей работе никаких ограничений. Всё разрешено. Помню, в юности я как-то беседовал со своим другом Александром Немтиным и сказал ему, что в принципе симфонический оркестр очень скован в данных ему возможностях. Придумали со времен классицизма некий состав и на том и остановились. А что делать, если мне нужно, чтобы двадцать тромбонов в низком регистре бабахнули один аккорд? Традиционный состав оркестра этого сделать не позволяет. Значит, надо как-то приспосабливаться, менять первоначальный замысел, получая нечто приблизительное вместо желаемого, или вообще отказываться от задуманного. Только электроника смогла позволить делать такие вещи.
— Накануне юбилея Вы вместе с продюсером Александром Вайнштейном сделали поклонникам своего таланта долгожданный подарок — выпустили в свет альбом с записью оперы «Преступление и наказание». Сколько времени Вы потратили на его создание?
— Два года. Из них почти год я и звукорежиссер проекта Геннадий Папин занимались сведением и монтажом фонограмм. Работа была проделана колоссальная, и я доволен её результатом.
— Как обстоят дела с мюзиклом «Щелкунчик», который ставит в Голливуде Андрей Кончаловский? Ваша работа близка к завершению?
— Мы сделали черновую запись всех вокальных и танцевальных номеров, необходимых для съёмок. Кстати, и съёмки этих эпизодов уже закончены. Запись всей музыки предполагается в конце июня. По предварительному раскладу мы собираемся записать ритм-секцию в Лондоне, медную группу — в Лос-Анджелесе, а струнные — в Москве, потому что струнные здесь замечательные, и американцы это знают и потому им эта идея очень нравится. Певцов, конечно, будут писать в США. Хочу сказать, что Кончаловский — феноменальный человек, который сделал для меня замечательную вещь: ввел в Голливуд. Это выглядело почти фантастическим и категорически невозможным, если учесть, что тогда мне был 51 год. А в Голливуде композитор должен пристраиваться к работе в кино с молодых лет, чтобы постепенно вырасти в признанного всеми профессионала. Поэтому я очень благодарен Андрею.
— После «Щелкунчика» чем собираетесь заняться?
— Я на какое-то время хочу отдохнуть от кинематографа, если, разумеется, получится. В моих планах работа с поэтом Юрием Ряшенцевым над мюзиклом «Раба любви» и завершение Концерта для фортепиано с оркестром, которое уже придумал. Ещё дальше — сочинение музыки к грандиозной картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2», в которой немало масштабных и лирических сцен, нуждающихся в присутствии музыки. Я видел кое-что из отснятого им материала, и он произвёл на меня сильное впечатление. Есть и другие идеи, но смогут ли они осуществиться, покажет время.
— Вы не подвержены «звездной болезни»?
— Даже не знаю, что это такое.
Татьяна Егорова
(«Музыкальная жизнь», № 1, 2008)
|