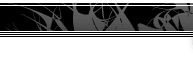|
Впервые я встретился с Андреем Тарковским в году 1970. Это было на квартире художника Михаила Ромадина, куда меня пригласил мой друг, художник Владимир Серебровский. Сколько времени прошло с тех пор, - но из памяти выплывает разговор о портрете Тарковского, который написал Ромадин. Портрет назывался "С косой". Запомнилось, как тщательно была выписана каждая деталь картины, но не в реалистической манере, а в своей, особенной. Так вот, Ромадин почему-то не соглашался, как я понял, продать портрет Тарковскому, и тот приходил к нему в гости - посмотреть.
Неожиданно там же, у Ромадина, зашла речь об электронной музыке. Володя Серебровский упомянул, что я занимаюсь такой музыкой, и Андрей заинтересовался. Мы договорились с ним побывать вместе в студии электронной музыки, куда Тарковский пришел чуть ли не на следующий день. Ему было любопытно узнать все что можно о новом искусстве: в то время он уже бывал за рубежом к там слышал электронную музыку, однако никак не предполагал, что у нас также проводятся эксперименты в данной области.
Я показал ему звучание электронных тембров, способы их обработки, дал послушать записи. Трудно сказать, какое впечатление они на него произвели. Кажется, он что-то заметил по поводу холодноватости колорита звучания электронной музыки. Возможно, но то ведь было самое начало ее существования, и техническое несовершенство синтезаторов, другой аппаратуры в значительной мере ограничивало и тормозило ее развитие.
После студии мы с Андреем поехали ко мне домой, по дороге я поделился с ним своей мечтой, которую, к сожалению, не удалось реализовать и по сей день. Я тогда задумал написать цикл для голоса с электронными инструментами (правда, я мог рассчитывать в начале семидесятых только на единственный в нашей стране синтезатор АНС, созданный Е. Мурзиным) и различного пода шумами, которые я надеялся подобрать в фонотеке "Мосфильма". По сути дела, я в те годы вплотную подошел к идее видеомузыки: понимая, что электроника не обладает пока зарядом мощного эмоционального воздействия, я стал искать другое искусство, способное привлечь к себе публику. Мой выбор пал на кино. Ранее я уже беседовал с кинорежиссером Саввой Кулишом, спрашивал, нельзя ли снять для меня какие-то образы, например, облака, пейзажи, размытые контуры предметов. Это совпадало с моим тогдашним увлечением абстрактной живописью, авангардным искусством... Словом, я рассказал о своем замысле Андрею и он ответил: "Да, любопытно. Но ты знаешь, может получиться неадекватное вложение". "В каком смысле?" Он объяснил: "Ты будешь сочинять свою музыку, вкладывать какую-то идею, а я просто возьму лужу, разолью в ней нефть и сниму. При этом меня совершенно не будет интересовать, какие тобой были затрачены усилия. Главное - чтобы музыка и изображение совпали".
С тем и разошлись. С весны больше не виделись. А осенью того же 1970 года Андрей меня сам разыскал, передал сценарий "Соляриса" и предложил с ним работать. Помню, мы встретились на киностудии. Он излагал мне замысел, говорил, какой представляет себе музыку, подчеркнув, что в фильме обязательно будет звучать Бах. Что же касается всего остального, то тут он мне дает полную свободу. Правда, Андрей тут же добавил, что, собственно, музыка как таковая в фильме ему не нужна, и мою задачу он видит в организации натуральных шумов, может быть их темброво-ритмической обработке на синтезаторе, "пропитывании" какой-то музыкальной тканью с тем, чтобы их звучание обрело яркую индивидуальность, специфичность и эмоциональную выразительность. Честно говоря, я не был тогда готов к подобному разговору, хотя не считал себя новичком в кино, имея за плечами несколько кинокартин. В итоге я попытался все-таки написать музыку. Не знаю, пошло ли это на пользу фильму. По крайней мере Тарковский ее в фильме оставил.
Когда наша предварительная беседа о "Солярисе" подходила к концу, Андрей спросил, знаю ли я его фильмы. Я признался, что нет, поскольку "Иванове детство" пропустил, а "Андрей Рублев" только начал с неимоверными трудностями пробивать себе дорогу к экрану. Тогда Андрей показал свой самый большой и самый длинный трехчасовой режиссерский вариант "Рублева", который так и не пошел в прокат.
До сих пор не могу забыть, как мы смотрели его в 21-м кинозале "Мосфильма". Я испытал тогда состояние глубочайшего потрясения и долго не мог прийти в себя. Не берусь сказать, что именно меня поразило. Наверное, все в целом. Вместе с тем я никак не мог понять, откуда и зачем взялись разные небылицы и кривотолки которые ходили в то время по Москве и о самом фильме, и о его создателе. Видимо, их распространяли люди, не очень симпатизировавшие Тарковскому и тому, что он делает в кино. Их досужие разговоры заставили меня настороженно отнестись к фильму. Но то было до просмотра. Увидев "Рублева", я уже не сомневался, что это исключительно новое и смелое произведение.
Когда мы первый раз говорили с Андреем о "Солярисе", его музыке, Тарковский обронил фразу, меня несколько огорошившую. Он сказал: "Вообще-то лучшего композитора, чем Вячеслав Овчинников (он был автором музыки первых полнометражных кинокартин А. Тарковского "Иваново детство" и "Андрей Рублeв"), я себе не представляю, но вынужден с ним расстаться по совершенно немузыкальным причинам. Это чисто личное". Вскоре после того разговора я посмотрел "Рублева" и музыка, написанная Славой Овчинниковым, произвела на меня огромное впечатление. Особенно музыкально-живописная сцена "Ночь на Ивана Купала". В то время я даже не представлял, что можно создать нечто подобное. Считаю и сейчас, что по музыке это одна из самых блистательных работ в кинематографе.
Неудивительно, что, познакомившись с музыкой "Рублева", я крайне серьезно отнесся к сочинению музыки для "Соляриса": хотелось не ударить лицом в грязь, быть, что ли, не хуже. Иными словами, музыка Овчинникова сильно подстегнула меня, стала хорошим стимулом в моей работе над "Солярисом". К сожалению, многочисленные черновики, эскизы, где я искал возможные сочетания музыки, шумов, разного рода немузыкальных звуков, не сохранились. Остались только партитуры, но по ним восстановить, как протекал процесс создания музыки фильма, нельзя. Да и сама запись музыки была долгой и очень мучительной. На магнитофонах было одновременно заряжено 16-17 подготовленных мной пленок. Мы их соединяли, разъединяли, пытаясь найти нужное нам звучание, тембровые краски, несущие в себе именно ту интонацию, которую содержал, которой был наполнен каждый кадр фильма.
По возвращению со съемок Тарковский мне несколько раз показывал "Солярис", советовал обратить внимание на те или иные сцены, эпизоды. Например, очень большое значение он придавал сцене "Крис прощается с землей". Андрей хотел, чтобы там "пел" ручей, звучали голоса невидимых птиц, чтобы падали "музыкальные" капли, из небытия рождались "музыкальные" шорохи травы. Я все сделал, как он просил, на электронике, но на перезаписи при сведении музыки и шумов с изображением Андрей решил оставить только чистые "живые" шумы. Не потому, что у меня чего-то там не получилось, нет. Просто он почувствовал, что если в этом эпизоде сохранить музыку, то потом, когда действие переместится в космос, на загадочную планету Солярис, может возникнуть впечатление, что в фильме слишком много музыки, в особенности электронной. Кроме того, будет потеряно ощущение различия между миром земли и космоса. Поэтому он хотел сделать иным звуковой образ земли, наполнив его натуральными шумами.
Интересно, что по ходу работы над "Солярисом" Андрей мне много говорил о том, как он себе представляет роль композитора в его кино. В лице композитора он искал не автора музыки, а организатора звукового аудиопространства фильма. Более того, композитор был еще ему нужен для того, чтобы поддержать музыкой те места, которые эмоционально он не сумел или пока не смог языком кино довести до зрителя. По мере овладения этим искусством Тарковский все более ограничивал сферу активного участия композитора, обращаясь к шумам, классической музыке, и, наконец, в своем последнем фильме "Жертвоприношение" совсем отказался от приглашения композитора на картину. Для него, я считаю, это решение было закономерным, так как он уже не нуждался в каких бы то ни было музыкальных котурнах.
Насколько его позиция была мне близка? В кино, пожалуй, нет, но в целом я принимал и поддерживал концепцию, которую развивал в своем творчестве Тарковский. Дело в том, что к тому времени я пришел к мысли, что музыка расширила границы до уровня окружающего нас звукового мира. Я даже придумал такую формулировку или определение, что если композитор использует в произведении только музыкальные инструменты, то он является творцом элитарной музыки, потому что он берет из всей многообразной палитры существующих в природе звуков лишь отдельные, исключительные, а значит - элитарные звуки музыкальных инструментов. Андрей с интересом меня выслушал, а потом заявил: "Как угодно, ты можешь считать Баха элитарным или не элитарным, но выше его музыки я не знаю ничего" И продолжил: "Любое определение, когда дело касается подлинного искусства или такого мощного таланта, какой был у Баха, бессильно. Ибо музыка Баха дает непосредственный импульс твоей душе, и ты его чувствуешь".
И. С. Бах был любимым композитором Андрея Тарковского. Когда бы я к нему не пришел, у него обязательно звучала музыка Баха. Без нее Андрей просто не мог жить. Многие из произведений знал наизусть, коллекционировал грамзаписи, сразу стараясь приобрести все то, что у нас издавалось. Нередко друзья привозили ему пластинки из-за границы. Я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что музыка Баха сопровождала его почти ежедневно.
Я никогда не был на съемках у Тарковского. Иногда заходил в павильон на "Мосфильме", но всегда во время перерыва - поболтать, пообщаться. Так что мне неизвестно, каким он был на съемочной площадке, был ли "жестким" режиссером, как говорят некоторые. Однако в мою работу он никогда не вмешивался, не пытался мне навязать что-то свое.
Надо сказать, у меня так заведено, что до того, как я увижу фильм, к музыке не приступаю. Мне обязательно нужно увидеть, впитать в себя индивидуальный почерк, манеру и образ мышления режиссера, его стиль и только потом садиться писать музыку. Сочинять музыку на основе сценария я не могу, потому что фильм может кардинально отличаться от того эмоционального впечатления, которое произвел на меня сценарий. Поэтому я всегда терпеливо жду, что покажет мне режиссер, и тогда его стиль, язык, образная система мышления рождает во мне ответную реакцию. Вообще кадр действует на меня самым чудодейственным образом. Так было и в фильмах Тарковского.
Обычно Андрей давал мне смонтированную вчерне, но очень точно картину и говорил: "Я рекомендую тебе сделать музыку здесь и здесь, но ты смотри, ищи сам". В результате я был абсолютно предоставлен самому себе и сам должен был себя контролировать, постоянно гадая, что скажет Андрей, подойдет ли ему музыка или нет. Так работать было очень тяжело. Я как бы всегда находился в состоянии невесомости. Тем более, что на запись музыки Тарковский не приходил никогда, полагая, что это не концерт, что кино - искусство коллективное и семиотическое и потому лишь во время перезаписи, на просмотре всего материала он сможет решить нужна ли будет ему музыка или не нужна, где следует ввести ее. а где обойтись одними шумами. То есть только киноматериал во всем своем объеме диктовал ему, как должно поступить а том или ином случае, исходя из его собственных художественных установок и принципов.
Кстати, в "Солярисе" в сцене "Картина Брейгеля" Андрей, как выяснилось, вовсе не собирался использовать музыку. Я написал ее по своему усмотрению. Потом предложил Андрею послушать. Он задумался, долго дергал ручки, вводил, убирал музыку из кадра (дело было на сведении), пробовал шумы, добавлял крики птиц и, наконец, решился ее оставить.
...В "Зеркале" - нашей второй совместной работе с Тарковским - он опять выдвинул передо мной те же условия, что были в "Солярисе": организация музыкально-шумовых пластов фильма. Что касается самой музыки, то, насколько мне известно, она в "Зеркале" на первых порах вообще не предполагалась. Позднее ситуация изменилось.
В "Зеркале" в самом начале есть эпизод: лес, клонящиеся под порывами ветра деревья. Я написал для него специально музыкальный номер. Мне казалось, что он хорошо сочетается с натуральными звуками ветра. Работал я в паре со звукорежиссером С. Литвиновым и очень плодотворно. К тому времени мы сделали вместе с ним две картины и прекрасно понимали друг друга. Причем, мы всегда заранее договаривались, прежде чем начать что-либо делать, что будет у меня, а что у него, и соответственно нашей договоренности я писал музыку, Литвинов подбирал шумы. Но Тарковский, услышав то, что получилось, твердо сказал: "Нет, музыка мне в этой сцене мешает. Это опять начинается живопись, мне же нужны реальные ощущения".
Помнится, что в разговорах о "Зеркале" Андрей все время возвращался к начальным кадрам: вот стоит мальчик, затем он входит в дом, внезапно налетающий ветер раскачивает ветви деревьев... И здесь ему был нужен какой-то звук, чтобы передать ощущение детских страхов. Я стал искать разные электронные тембры. Показывал их Андрею. А ему все не подходило. Андрей мучился, не находил себе места. Я тоже нервничал. Мы уже готовились к перезаписи, и вдруг он меня спрашивает: "Чего, как ты думаешь, может бояться человек, ребенок? Пожалуй, звуков..." Я попытался что-то ему изобразить на синтезаторе, но не понравилось, не подходило. Неожиданно Андрей говорит: "Что, если нам взять обыкновенную дудочку, на которой играют дети? ". Мы записали дудочку, и ее звук, пугающе чистый, хрупкий, чудесным образом лег на изображение.
Бывали и другие случаи, когда уже я выступал инициатором появления музыки в сценах, которые ранее не включали в себя ее. Так было с большим документальным эпизодом "Сиваш" из "Зеркала".
Андрей хотел весь эпизод прохода советских войск через Сиваш построить на хронике второй мировой войны и ощущении молчаливого голого пространства, шума воды и глухого плеска усталых солдатских шагов. Он считал, что эти звуки вместе с кадрами военной хроники и вмонтированными в один ряд с ними взрывом атомной бомбы над Хиросимой, ревом моторов израильских танков и криками хунвеибинов на советско-китайской границе сами по себе уже достаточно мощно воздействуют на зрителя. Но я где-то интуитивно почувствовал, что всего этого будет недостаточно и написал музыку. Принес ее на перезапись. Андрей очень удивился, но музыка ему как-то сразу понравилась и он решил ее оставить. К сожалению, музыка появилась в картине не в том виде, как мне хотелось бы: она звучит тихо, неразборчиво, тем не менее она все-таки звучит...
Интересно, что, работая над проходом солдат в эпизоде "Сиваш", я придумал технику сочинения вариаций на один аккорд. Иными словами, я по-разному записал и оркестровал с использованием всех расположении, всевозможных тембров трезвучие до-диез минор, постепенно увеличивая силу его звучания, динамику, уплотняя фактуру и т. д. Надо сказать, что идея создания вариации на один аккорд в "Зеркале" Тарковского возникла у меня под влиянием другого произведения, очень меня в то время занимавшего. Это были вариации на один тембр, которые я назвал "Двенадцать взглядов на мир звуков".
Вообще, самой трудной для меня была работа над "Солярисом" (может быть поэтому он так мне дорог). В "Зеркале" и "Сталкере" стало уже полегче. Видимо, мы с Андреем постепенно притерлись, стали внутренне близки. Я всегда поражался, как тщательно он делал свои картины, не допуская ни малейшей ошибки. Во времена "Соляриса" и "Зеркала", я помню, каждую часть приходилось писать от начала и до конца - такой была тогда аппаратура. Лишь в "Сталкере" мы получили возможность работать на системе, позволившей вписывать музыку, речь, шумы с нужного нам момента. Раньше же приходилось прогонять часть раз двадцать с тем, чтобы режиссер и звукооператор могли выучить ее почти досконально, и лишь потом записывать. В случае любой неточности, сбоя все надо было делать опять заново.
История сочинения музыки для этой картины была, пожалуй, самой сложной, потому что у Андрея не было долгое время четкого понимания того, какой должна быть ее музыкальная атмосфера. Помню, что вскоре после того, как я через Машу Чугунову получил сценарий "Сталкера", Андрей позвонил мне по телефону и сказал, что он весьма приблизительно наметил там музыку, и, только закончив съемки, будет знать, где именно будет нужна музыка. Однако, отсняв весь материал, он продолжал искать и объяснял мне, что ему требуется в фильме некое сочетание Востока и Запада, вспоминая при этом слова Киплинга о несовместимости Востока и Запада, которые могут только сосуществовать, но никогда не смогут понять друг друга. В "Сталкере" Андрей очень хотел, чтобы эта мысль прозвучала, но у него ничего не получалось. Тогда он предложил мне попробовать исполнить европейскую музыку на восточных инструментах, или, наоборот, восточную мелодию на европейских инструментах, а европейской оркестровке и посмотреть, что в итоге получится. Мне такая идея показалась интересной, и я принес Андрею замечательную мелодию "Pulcherrima Rosa" анонимного автора XIV века - средневековое песнопение, посвященное деве Марии. Андрей, послушав, эту тему тут же решил взять, но предупредил, что в таком первозданном виде она в фильме просто немыслима. Надо дать ее в восточном колорите, в восточном изложении. Это свое условие он считал обязательным и непреложным. Потом, когда я снова вернулся к разговору о музыке "Сталкера", Тарковский неожиданно сказал мне: "Знаешь, у меня есть друзья а Армении и Азербайджане. Что если мы выпишем оттуда музыкантов, а ты распишешь для них мелодию "Pulcherrima Rosa", и они будут ее играть, импровизировать на эту тему?". Решили попробовать. Пригласили из Армении музыканта-исполнителя на таре.
Я сделал оркестровую обработку темы, где тар вел основную мелодию. Андрей пришел на запись, внимательно слушал и отверг, сказав, что получилось совсем не то, что он ожидал и чего добивался. Остановили запись, начали опять думать, искать выход. И тут, не знаю как получилось, возможно, что сам Андрей что-то обронил в беседе о необходимости создания в фильме состояния некоего внутреннего спокойствия, внутреннего удовлетворения, подобного тому, что встречается в индийской музыке. Я сразу за эту мысль ухватился, и мне стал ясен прием, каким здесь надо воспользоваться.
Вообще я не люблю прибегать в своей работе как в кино, так и в других музыкальных жанрах к открытым приемам. Напротив, я всегда стараюсь замаскировать нашу композиторскую технику, чтобы слушатель не понял, как это сделано. Но, видимо, в "Сталкере" встретился именно тот случай, когда без открытого приема просто нельзя было обойтись. Поэтому я взял за основу музыкального решения фильма довольно известный в индийской музыке метод. Он построен на выделении одного опорного тона, который обычно поручается исполнителям на индийских струнных щипковых инструментах вина или тампур. На фоне этого протянутого звука идет импровизация на таре - инструменте многонациональном, распространенном не только у индийцев, но у иранцев, армян, азербайджанцев. грузин.
К тару я решил добавить заимствованную уже из европейского инструментария продольную флейту, которая широко встречалась в Средние века. Однако потом я пришел к выводу, что такое прямолинейное соединение европейских и восточных инструментов носит слишком условный характер и откровенно иллюстративно демонстрирует мои намерения. Тогда я обратился к электронике и пропустил их звучание через каналы эффектов синтезатора "SYNTHI-100", придумав много разных, необычных модуляций для флейты. Что же касается тара, то он был записан мной сначала на одной скорости, затем понижен так, чтобы можно было услышать "жизнь каждой его струны", что для меня было необычайно важно. Затем я как бы "повесил" далеко в звукоакустическом пространстве легкие, тонально окрашенные фоны. И все. Позвал Тарковского.
Он пришел ко мне в студию электронной музыки вместе с сыном, маленьким Андреем. Я включил запись. Андрей-старший был изумлен, в особенности тем, как у меня зазвучал тар. "Послушай, что ты с ним сделал? - все спрашивал он. - Я ведь помню, как он звучал один, сухо, словно удары гороха, а здесь совсем другое дело!" Короче говоря, музыку, которую я буквально нащупал эмпирическим путем, Тарковский принял, не потребовав каких бы то ни было переделок, изменений.
Помимо кино мы с Андреем виделись довольно редко. Так вышло, что все наши встречи я могу буквально перечислить по пальцам. По себе знаю, что он был хлебосольным хозяином. У него на квартире (сначала на проспекте Мира, затем на Мосфильмовской улице) часто собирались гости, ели, пили, много и шумно спорили об искусстве, жизни. И вот там однажды произошел просто замечательный эпизод. Драматург Александр Мишарин на один из вечеров в доме Тарковского принес игру, по которой, как он уверял, можно было выяснить, кто из нас гений. Мишарин раздал нам листы, разделенные на четыре части. В каждой было что-то нарисовано. Мы должны были, сейчас уже не помню, то ли что-то дорисовать, то ли зачеркнуть какую-то из частей. Все начали ломать голову как бы сделать это "погениальнее". Андрей также взял лист бумаги, внимательно на него посмотрел, перевернул и начертил на обратной стороне крест. Ошеломленный Мишарин сказал, что это именно и есть знак гения...
Я полностью с ним согласен, однако думаю, что разгадать предложенную загадку Андрею помог колоссальный интеллект, которым обладал он. Для меня этот эпизод остался самым ярким, врезавшимся в память, потому что он очень точно характеризовал Андрея. Конечно, в нем сильно было развито и чувственное восприятие, но оно постоянно находилось под контролем интеллекта.
Для меня был притягателен свойственный Тарковскому метод киноповествования, неторопливая подача материала. Эти большие, длинные кадры, где ничего вроде бы не происходит, и вместе с тем именно они рождают в тебе состояние какого-то звона, огромного внутреннего напряжения. По-моему, Андрей владел редким даром - умением "держать" кадр и таинственным образом посылать через него импульс, делать из него произведение искусства. Я даже не могу конкретно объяснить, как и почему кадры Тарковского овладевают нашим вниманием, вызывая ответную вибрацию души. Может быть это связано с самой натурой Андрея, очень нервной и импульсивной. Не знаю. Но и в своей музыке я, заряженный его состоянием, также старался передать то звенящее, вибрирующее напряженное чувство, которым наполнены его фильмы. Возможно именно поэтому то, что я написал для Тарковского в кино, отличается от того, что я делал для других режиссеров.
Как-то у нас с ним зашла речь о кино. Размышляли, что же такое кино. Андрей мне сказал: "Я тоже не знаю. Для меня кино - это время и метры пленки". Он вообще считал, что для кино наиболее подходящим является классический вариант театра: единство времени, места и действия. Тарковский мечтал сделать фильм, который длился бы ровно столько, сколько он его снимал. Говоря об этом, Андрей имел в виду не хроникальную, а именно художественную ленту, с выстроенным кадром, сыгранной ситуацией.
Эксперименты в области кино чрезвычайно интересовали Тарковского. Вероятно, он считал, что стремление режиссеров в разных странах, разных частях света снимать такое кино заставляет само время.
Вместе с тем он хотел сделать именно художественное произведение, а не кинонаблюдение. К сожалению, не сделал, не успел.
В другой раз, продолжая начатый разговор о кино, Андрей заметил, что пока кинематограф не научился говорить на собственном языке, он вынужден многое заимствовать у театра, литературы, живописи, музыки. Обращаясь в своих картинах к музыке старых мастеров - Баха и его предшественников, он пытался, причем сознательно, посредством музыки создать у зрителя некую аллюзию глубоких исторических корней нового вида искусства, каковым является кино.
Почти все его фильмы имели трудную судьбу, не сразу принимались зрителями, критикой, коллегами-режиссерами. Многие из них постепенно и порой мучительно открывали для себя кинематограф Андрея Тарковского. Было и немало нападок, незаслуженных и выдуманных обвинений в его адрес. Однажды я помню, как на обсуждении "Сталкера" Андрея попросили рассказать в двух словах его содержание. Андрей вспылил: "Я готовился к фильму всю жизнь, снимал его два года. С первого раза у меня не получилось, а вы хотите, чтобы я объяснил теперь вам в нескольких словах весь фильм? Смотрите еще раз!" К грубым выпадам он относился безразлично. По крайней мере я не замечал, чтобы он страдал от непонимания, одиночества, искал поддержки. С ним всегда были его друзья, единомышленники. Он намеревался долго и много работать, невзирая на препоны и трудности.
У Андрея даже была специальная тетрадь, где расписан план на всю жизнь, все картины, которые он должен был снять. Это был целый список. После "Соляриса" он, например, хотел поставить "Идиота", но по каким-то, видимо, не зависящим от него причинам, вынужден был перескочить, отодвинуть этот фильм и начать снимать "Зеркало".
За "Зеркалом" следовал "Сталкер". Потом в планах у него стояла "Волшебная гора" Томаса Манна, "Ностальгия". Что касается его последнего фильма "Жертвоприношение", то его в списке не было и, возможно, не должно было быть. Идея этой картины возникла только тогда, когда Андрей уже был серьезно болен и понимал, что обречен...
Последние мои воспоминания о Тарковском связаны, как ни странно, опять с нашей первой и потому, наверное, самой дорогой совместной работой - с "Солярисом". Одно из них почти забавное, второе - трагическое.
Когда Андрей собирался в Италию на съемки "Ностальгии", он приглашал меня, но итальянцы воспротивились, навязав своего "штатного" композитора. Неожиданно я получил от него предложение зайти в гости. Я пришел, и тут выяснилось, что Андрею прислал необычную посылку из Японии композитор Tomita (как выяснилось, я его знал). Tomita, увидев "Солярис" Тарковского, записал и отправил Тарковскому свою версию музыки фильма. Показывая ее, Андрей сказал: "Удивительно, какой-то человек присылает мне музыку "Соляриса", хотя, по-моему, она уже написана". Больше никакого комментария не последовало. Но в посылке Tomita была и другая пластинка, которая называлась "Planets" и представляла собой оригинальную обработку при помощи электроники известной музыки английского композитора Холста. Эта пластинка и привлекла внимание Андрея настолько, что он позволил себе высказаться по поводу электронной музыки: "Мне кажется, что электронная музыка уже выходит из младенческого состояния, и теперь ей под силу решать не только космические, но и собственно человеческие проблемы". Я ему рассказал, что знал о Tomita, который был и композитором, и аранжировщиком, и исполнителем, и звукорежиссером. Андрей неожиданно признался, что если бы он не стал кинорежиссером, то обязательно пошел бы учиться на дирижера, потому что ему близко это искусство. Он всегда мечтал из хаоса что-то организовывать. У него был особый, редкий дар творца...
Когда мне стало известно, что Андрей умер, это было как удар. Хотя все мы понимали неизбежность такого исхода. Потрясение, видимо, было настолько сильным, что я сразу, почти в одночасье, сел и записал в студии "Океан" - свое новое сочинение, которое посвятил памяти Андрея Тарковского. Почему именно "Океан"? Мы начинали с ним с "Соляриса", и тема Океана была основным лейтмотивом фильма. Океан Соляриса раскрывался и в картине и в музыке как образ космоса, образ творца. Андрей был и всегда останется для меня творцом. И хотя смерть забрала его тело, у нас осталась его душа, которой суждено долгое космическое путешествие по уголкам планеты Земля и всей Вселенной.
Материал подготовила Татьяна Егорова ("Музыкальная жизнь" N17, 1988)
|